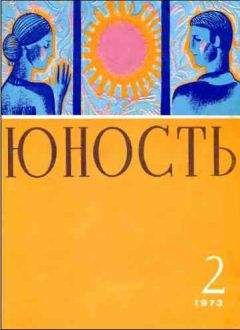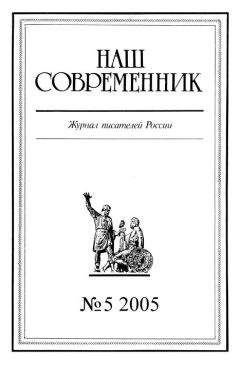Журнал Юность - Журнал `Юность`, 1974-7
Не стесняясь — шутить так шутить! — я обернулся к ходикам — без десяти пять — и весело глянул на Валю, думая встретить ее насмешливую улыбку. Но Валя не смотрела на меня, она преспокойно учила. Я словно ожегся и отвел глаза. Конечно, чему тут улыбаться! Шутка до того глупа, что дальше некуда!.. Пристыженный, я уткнулся в историю и, буксуя на фразе о борьбе Плеханова с народниками, стал разносить себя в пух и прах!.. Говорил, держись, так нет, шутить полез, Мольер! Ну и моргай теперь!.. Правда, время шутки еще не истекло, может, именно в пять Валя простительно рассмеется и развеет эту дурацкую неловкость. И в голове моей тотчас заработал неведомый счетчик, отщелкивая секунды и минуты. На Валю я больше не смотрел — ни тайно, ни явно. Я, как НЗ, хранил этот последний взгляд, который виновато-конфузливо брошу на нее, когда часы ударят… Сначала в ходиках пробудится жужжалка, и лишь потом забьет важно и раскатисто. Несколько раз мне уже чудилось это жужжание, и я вздрагивал, но это машины проносились под окном, а настоящее жужжание я прозевал — часы ударили вдруг.
— Пять! — вырвалось у меня.
— Пять, — сказала Валя.
— Пять! — слегка пригрозил я.
— А не спешат они?
— Нет.
Усиливая угрозу я стал приподниматься, поднялась и она. Не знаю, какой вид был у меня, но Валя улыбалась странно: не дразняще-игриво, как надо бы в шутке, а напряженно-выжидательно. И я медленно двинулся к ней, мелко перебирая руками по столу, чтобы хоть как-то удлинить этот невероятно короткий путь. Валя пошла от меня. Я прибавил шагу, прибавила и она. Я побежал, и она побежала. Я все ждал, что Валя вот-вот прервет эти кошки-мышки, махнет рукой, властно усаживая меня на место, и мы начнем наш дурацкий английский язык, но она не прерывала. Я метнулся в обратную сторону, она — в обратную. Скатерть сбилась, что-то упало, стучали по полу ножки сдвинутого стола, а мы, ничего не замечая, кружили и кружили, шумно дыша, и никак не могли сблизиться, как одноименно заряженные частицы. Валя наконец оторвалась от стола и скрылась в коридоре. Я кинулся следом. Она, фосфорически сияя водолазкой, стояла в полумраке спиной к стене и глядела исподлобья, как я приближаюсь. И я вдруг понял, что больше она не побежит от меня и что все это уже не шутка. С мертвящей бесчувственностью я взял ее за плечи и, закрыв глаза, бессильно ткнулся губами в ее щеку. Валя встрепенулась, обхватили руками мою шею и, шепнув «не так», быстро поцеловала меня в губы.
— Вот так, Эп! — выдохнула она и умчалась в гостиную.
(Окончание следует.)
Стихи
Владимир Цыбин
Уеду отсюда
неужто, неужто!..
На песню, на чудо
спешу распахнуться.
Открыто и ясно
я снова и снова
спешу отозваться
на каждое слово,
на каждую ветку
в ледовой поковке,
и жажде, и ветру,
и бегу по бровке.
Откликнусь, отважно
откликнусь, как вече,
доверчивой каждой
улыбке при встрече.
И каждому диву
и каждой удаче —
живите счастливо,
а как же иначе!
Я ж верностью строгой
откликнусь лучисто.
Звезда над дорогой,
звезда с обелиска.
Как тихие гнезда
средь зимней сушины,
каленые гроздья
мне тянут рябины.
Засветятся завязи —
теплые звезды,
и свяжет мне варежки
иней морозный.
За первою вспашкой,
за звонкою песней
иду — нараспашку —
дорогой неспешной…
Не праздно, не мимо,
и в полдень, и в полночь
всему, что любимо,
навечно запомнюсь.
Еще снега погода не смела,
и завязи пока еще не зрелы,
а запахов, а звени, а тепла
раздвинулись внезапные пределы.
Березовая, теплая кора,
набрякшая оттаявшею прелью,
тебя с утра со всех сторон капели
обстукивают, словно доктора.
Мне эта звень доныне дорога,
врачующая оттепельной влагой,
увлечены неведомою тягой,
ручьи сдвигают к полюсу снега.
Лишь хочется зачем-то про запас
среди забот, средь неустанных тягот
вблизи капель услышать лишний раз
прохладную, как горсть созревших ягод…
Неужто то мил, то постыл,
желанный с неправдой любою,
все то, что забыл и простил,
опять называю любовью!
Я вспомнил без снов и без слов
как будто нечайно об этом,
хотя уже столько годов
держал я ее под запретом.
И, ставшая верной рабой
моею, недаром, недаром
сухая, безгневная боль
сжигает пророческим жаром,
готовое к взлету крыло
вдруг прежнею стужею свяжет
и все, что когда-то прошло,
вчерашнему сердцу предскажет…
Сквозь тишину веду версту
вдаль, на упавшую звезду,
веду версту, веду опять,
а кажется: учусь летать.
Я слышу, словно всплеск плотвы,
дрожит окалина листвы.
Иду, но мне невмоготу,
что замурован в немоту,
что, словно в каменной стене,
живу в недвижной тишине;
и жду — лист вздрогнет, треснет сук
иль с ветки влажный капнет звук,
а кажется, что сердца стук…
Но, вырвавшись из немоты,
не повторишь ли путь листвы —
в листву, в траву, в прохладу, в лог!
Путь через небо — как ожог.
Листва, вскрыли, листва, спеши
из летаргической тиши!
Я за спиною ощутил
сверхзвуковую тяжесть крыл,
прохладную непрочность рос,
полярный белый свет берез
и у окраин синевы
сентябрьский кумач листвы.
Фазиль Искандер
Ошибка
Горячий полдень, южный пляж, песок.
Послушай, подожди, — сквозь влажный гул прибоя
Окликнул ты жену.
И вдруг на оклик обернулась не она…
Не женщина, а юное созданье.
— Меня!! — она спросила.
Она спросила, окрыляясь красотой.
Которой ты не знал, но, может быть,
В редчайшие минуты был достоин.
Ты все заметил: и цветок лица,
И трепет крови сквозь загар,
И юность белозубую,
И низкую прическу.
Безмерность влажных глаз срезавшую стыдливо,
До дерзости…
— Послушать! Подождать! — она спросила, молча обернувшись,
Всей нежностью, всей радостью лица.
Всей гибкостью тянущейся фигуры…
Не дотянись и вытянись еще!
Не дотянись — потрепещи мгновенье!
Как морем, свежестью надежды заполняясь.
Подумал ты.
Когда она на оклик обернулась
И всем своим ликующим лицом.
Лицом ликующим над волнами стыда,
Как бы твой оклик повторила:
— Послушать!! Подождать!!
Да я всю жизнь…
Но в этот миг с коротким опозданьем
Твоя подруга тихо обернулась,
И, на лице твоем заметив отсвет
Ее лица, взглянула на него,
И, все поняв,
безропотно опала.
И ты мгновенно радость погасил,
И девушка, ошибку сознавая,
Погасла медленно.
За что казнить себя!!
Ты эту радость не украл у боли,
Но, видно, невозможно…
И, видно, боль значительней, чем радость,
Поскольку сам ты,
не подумав даже,
При виде боли радость погасил.
Иди, сияй улыбкой белозубой,
(Казнящей красоты сверкающее жало).
Безмерность влажных глаз срезай
прической
(Одежда — вздор, когда глаза обнажены),
Не дотянись и вытянись еще.
Еще потрепещи, не дотянувшись… еще…
Горячий полдень. Южный берег. Пляж.
Как глубоко в песок уходят ноги!
Невыносима эта фальшь
Во всем — в мелодии и в речи.
Дохлятины духовной фарш
Нам выворачивает плечи.
Так звук сверлящего сверла,
Так тешится сановной сплетней,
Питье с господского стола
Лакей, лакающий в передней.
Прошу певца: «Молчи, уважь…
Ты пожелтел не от желтухи….
Невыносима эта фальшь,
Как смех кокетливой старухи».
Но чем фальшивей, тем звончей
Монета входит в обращенье,
На лицах тысячи вещей
Лежит гримаса отвращенья.
Вот море гнилости. Сиваш.
Провинция. Шпагоглотатель.
Невыносима эта фальшь,
Не правда ли, очковтиратель!!
Давайте повторять, как марш,
Осознанный необратимо,
Невыносима эта фальшь.
Да, эта фальшь невыносима.
Серебристый женский голос
Замер у опушки.
Гулко надвое кололось
Гуканье кукушки.
День кончался. Вечерело
На земной громаде.
В глубине лазури тлела
Искра благодати.
День кончался. Вечерело
В дачном захолустье.
И душа сама хотела
Свежести и грусти.
И, как вздох прощальный, длился
Миг, когда воочью
Этот мир остановился
Между днем и ночью.
Серою мучною крысой
День над головой.
Обернулась наша крыша
Крышкой гробовой.
Видно, жаркие объятья —
Мало для любви.
У меня свои проклятья,
У тебя свои.
Мир огромный, заоконный
Плещется в крови.
У него свои законы,
У тебя свои.
Что нам палкой или плеткой
Сбитая семья!!
Завернись до подбородка
В холод бытия.
Захлебнутся эти годы.
Взорванный отсек…
Только как же, большеротый.
Третий человек!
Наше смутное подобье,
Чтобы не реветь,
Молча смотрит исподлобья,
А чего смотреть!
Просто дождь стучит о крышу,
Дождь стучит, малыш.
Все я выдумал про крысу,
Крыса — это мышь.
Вот и определилось:
Кто, куда и зачем.
И не вчера появилось:
Я есть то, что я ем.
Вот и определилось…
Кушаешь! Хорошо.
Кушаешь, сделай милость,
Будет добавка еще.
Перекрутила юность
Тропы разных начал.
Что же сидеть, пригорюнясь.
Опознавай идеал.
Вот и определили
Самый последний предел,
Самое «или-или»,
Точку, водораздел.
Это над бездной и высью
Дьявола с богом дележ:
Я есть то, что я мыслю,
Ты есть то, что ты жрешь!
Анатолий Преловский